Мальчики и девочки сороковых…
В перешитых отцовских шинелях и пиджаках, переделанных старых маминых платьях. На ногах… Да что там на ногах?! В лучших случаях одна пара обуви на троих, которую носили по очереди. Но все же, невзирая ни на какие трудности, голод, холод и тяжелую работу, вы умели радоваться простым вещам: ярко-синему льняному полю, белым пятнам лилий на речной воде, школьным учебникам и занятиям. Таким запомнила свое босоногое послевоенное детство и Тамара Александровна Шкирич, с 1974 по 1995 год возглавлявшая отдел ЗАГС.
[caption id="attachment_76414" align="aligncenter" width="580"]

■ Лев, Людмила, Вячеслав и Тамара Мыслицкие, 1948 год[/caption]
В семье Мыслицких из поселка Заполье Слобода-Кучинского сельсовета, где в 1939-м родилась Тамара, подрастало четверо ребятишек. Старший брат Лева появился на свет в 1931 году, Людмила — в 1936-м и в 40-м — Вячеслав. Отец — связной партизанского отряда имени М.В. Фрунзе бригады имени Ворошилова Александр Мыслицкий — погиб 7 ноября 1942 года во время блокады партизанской зоны. Поэтому забота о судьбе детей легла на плечи матери Ядвиги Николаевны, женщины строгой и очень крепкой физически. Она умела многое делать сама: косила, жала и даже шила сапоги.
После окончания Великой Отечественной войны в Заполье проживало 16 семей, в которых воспитывалось около 50 детей. Десять женщин остались вдовами. У Язвинской Брониславы подрастали пятеро: Реня, Гена, Галина, Нина и Мария. Хилько Юзефа воспитывала двоих: Анну и Алесю. Столько же было и у Карпович Марии: Янок и Стась. По трое детишек подрастало у Зенюк Гельки (Валентин, Нина и Таисия) и у Луцевич Серафимы — Иван, Леонида и Виктор. От голода спасала единственная оставшаяся в селе бесхвостая корова: она давала молоко, на ней же обрабатывали и приусадебные участки. Управляли плугом сами женщины.
После войны тяжело было всем, и дети, как могли, старались помочь взрослым. Жали, сушили сено, по выходным, после занятий в школе, ходили в колхоз сажать картошку, а осенью убирали ее. Полоть лен детям нравилось: вокруг простирались невероятной красоты поля, и стоял дивный цветочный аромат. Когда лен вырастал, дети же его и рвали, затем стелили на поплаве, поднимали и вязали в пучки. Для сушки развозили по домам. Уже сухой лен терли и готовым сдавали в колхоз.
В поселке были два панских гумна. В одном хранились сено, снопы и зерно. В другом стояли кони и находилась вся упряжь. Осенью, когда приходила пора обмолачивать снопы, дети справлялись и с этим непростым заданием. Они сами приносили их с гумна, развязывали и подавали их более старшим ребятам.
И без того тяжелое положение усугублялось еще тем, что надо было сдавать государству мясо и молоко. Долг по мясу погашали крольчатиной. А молоко и масло отдавали как положено.
Помогали дети и своим мамам изготавливать саман — такой кирпич-сырец из глинистого грунта, в который добавляли солому или другие волокнистые растительные материалы. Для этого использовали залежи глины, находившиеся недалеко от Заполья. В деревянный ящик засыпали глину, измельченную солому и заливали их водой. Ребята босиком топтали эту массу. Затем полученную смесь разливали по деревянным формам и сушили. Результатом такого процесса становились кирпичики, из которых в колхозе строили коровники и конюшни. Приходилось собирать после жнеярки и колосья с полей. Обуви не было, и на босых ребячьих ногах оставалась паутина царапин. Собранные в специальные торбы колосья сдавали в колхоз.
Школы как таковой в поселке не было, поэтому учились по хатам. От комнаты хозяев класс отделяла тонкая перегородка, через которую все было слышно.
За пользование учебниками приходилось платить. Чтобы заработать деньги, ребята ходили за два километра перекладывать торф, который резали взрослые. В то трудное время помогли выжить рыба и раки, которых было полно в находившейся рядом реке. За час на пяти удочках удавалось наловить целое ведро раков! Их ели сами, ими же кормили и свиней.
…С последствиями Великой Отечественной Тамара Александровна столкнулась и много позже: во время своей трудовой деятельности. Именно ей, пришедшей в 1974 году на работу в отдел ЗАГС, пришлось восстанавливать уничтоженные в первые дни войны личные документы граждан. Копыльский район был единственным в Минской области, где не сохранилось ни единого документа: все было сожжено в первые дни войны, чтобы не досталось врагу.
Диана ТКАЧЕНКО
 ■ Лев, Людмила, Вячеслав и Тамара Мыслицкие, 1948 год[/caption]
В семье Мыслицких из поселка Заполье Слобода-Кучинского сельсовета, где в 1939-м родилась Тамара, подрастало четверо ребятишек. Старший брат Лева появился на свет в 1931 году, Людмила — в 1936-м и в 40-м — Вячеслав. Отец — связной партизанского отряда имени М.В. Фрунзе бригады имени Ворошилова Александр Мыслицкий — погиб 7 ноября 1942 года во время блокады партизанской зоны. Поэтому забота о судьбе детей легла на плечи матери Ядвиги Николаевны, женщины строгой и очень крепкой физически. Она умела многое делать сама: косила, жала и даже шила сапоги.
После окончания Великой Отечественной войны в Заполье проживало 16 семей, в которых воспитывалось около 50 детей. Десять женщин остались вдовами. У Язвинской Брониславы подрастали пятеро: Реня, Гена, Галина, Нина и Мария. Хилько Юзефа воспитывала двоих: Анну и Алесю. Столько же было и у Карпович Марии: Янок и Стась. По трое детишек подрастало у Зенюк Гельки (Валентин, Нина и Таисия) и у Луцевич Серафимы — Иван, Леонида и Виктор. От голода спасала единственная оставшаяся в селе бесхвостая корова: она давала молоко, на ней же обрабатывали и приусадебные участки. Управляли плугом сами женщины.
После войны тяжело было всем, и дети, как могли, старались помочь взрослым. Жали, сушили сено, по выходным, после занятий в школе, ходили в колхоз сажать картошку, а осенью убирали ее. Полоть лен детям нравилось: вокруг простирались невероятной красоты поля, и стоял дивный цветочный аромат. Когда лен вырастал, дети же его и рвали, затем стелили на поплаве, поднимали и вязали в пучки. Для сушки развозили по домам. Уже сухой лен терли и готовым сдавали в колхоз.
В поселке были два панских гумна. В одном хранились сено, снопы и зерно. В другом стояли кони и находилась вся упряжь. Осенью, когда приходила пора обмолачивать снопы, дети справлялись и с этим непростым заданием. Они сами приносили их с гумна, развязывали и подавали их более старшим ребятам.
И без того тяжелое положение усугублялось еще тем, что надо было сдавать государству мясо и молоко. Долг по мясу погашали крольчатиной. А молоко и масло отдавали как положено.
Помогали дети и своим мамам изготавливать саман — такой кирпич-сырец из глинистого грунта, в который добавляли солому или другие волокнистые растительные материалы. Для этого использовали залежи глины, находившиеся недалеко от Заполья. В деревянный ящик засыпали глину, измельченную солому и заливали их водой. Ребята босиком топтали эту массу. Затем полученную смесь разливали по деревянным формам и сушили. Результатом такого процесса становились кирпичики, из которых в колхозе строили коровники и конюшни. Приходилось собирать после жнеярки и колосья с полей. Обуви не было, и на босых ребячьих ногах оставалась паутина царапин. Собранные в специальные торбы колосья сдавали в колхоз.
Школы как таковой в поселке не было, поэтому учились по хатам. От комнаты хозяев класс отделяла тонкая перегородка, через которую все было слышно.
За пользование учебниками приходилось платить. Чтобы заработать деньги, ребята ходили за два километра перекладывать торф, который резали взрослые. В то трудное время помогли выжить рыба и раки, которых было полно в находившейся рядом реке. За час на пяти удочках удавалось наловить целое ведро раков! Их ели сами, ими же кормили и свиней.
…С последствиями Великой Отечественной Тамара Александровна столкнулась и много позже: во время своей трудовой деятельности. Именно ей, пришедшей в 1974 году на работу в отдел ЗАГС, пришлось восстанавливать уничтоженные в первые дни войны личные документы граждан. Копыльский район был единственным в Минской области, где не сохранилось ни единого документа: все было сожжено в первые дни войны, чтобы не досталось врагу.
Диана ТКАЧЕНКО
■ Лев, Людмила, Вячеслав и Тамара Мыслицкие, 1948 год[/caption]
В семье Мыслицких из поселка Заполье Слобода-Кучинского сельсовета, где в 1939-м родилась Тамара, подрастало четверо ребятишек. Старший брат Лева появился на свет в 1931 году, Людмила — в 1936-м и в 40-м — Вячеслав. Отец — связной партизанского отряда имени М.В. Фрунзе бригады имени Ворошилова Александр Мыслицкий — погиб 7 ноября 1942 года во время блокады партизанской зоны. Поэтому забота о судьбе детей легла на плечи матери Ядвиги Николаевны, женщины строгой и очень крепкой физически. Она умела многое делать сама: косила, жала и даже шила сапоги.
После окончания Великой Отечественной войны в Заполье проживало 16 семей, в которых воспитывалось около 50 детей. Десять женщин остались вдовами. У Язвинской Брониславы подрастали пятеро: Реня, Гена, Галина, Нина и Мария. Хилько Юзефа воспитывала двоих: Анну и Алесю. Столько же было и у Карпович Марии: Янок и Стась. По трое детишек подрастало у Зенюк Гельки (Валентин, Нина и Таисия) и у Луцевич Серафимы — Иван, Леонида и Виктор. От голода спасала единственная оставшаяся в селе бесхвостая корова: она давала молоко, на ней же обрабатывали и приусадебные участки. Управляли плугом сами женщины.
После войны тяжело было всем, и дети, как могли, старались помочь взрослым. Жали, сушили сено, по выходным, после занятий в школе, ходили в колхоз сажать картошку, а осенью убирали ее. Полоть лен детям нравилось: вокруг простирались невероятной красоты поля, и стоял дивный цветочный аромат. Когда лен вырастал, дети же его и рвали, затем стелили на поплаве, поднимали и вязали в пучки. Для сушки развозили по домам. Уже сухой лен терли и готовым сдавали в колхоз.
В поселке были два панских гумна. В одном хранились сено, снопы и зерно. В другом стояли кони и находилась вся упряжь. Осенью, когда приходила пора обмолачивать снопы, дети справлялись и с этим непростым заданием. Они сами приносили их с гумна, развязывали и подавали их более старшим ребятам.
И без того тяжелое положение усугублялось еще тем, что надо было сдавать государству мясо и молоко. Долг по мясу погашали крольчатиной. А молоко и масло отдавали как положено.
Помогали дети и своим мамам изготавливать саман — такой кирпич-сырец из глинистого грунта, в который добавляли солому или другие волокнистые растительные материалы. Для этого использовали залежи глины, находившиеся недалеко от Заполья. В деревянный ящик засыпали глину, измельченную солому и заливали их водой. Ребята босиком топтали эту массу. Затем полученную смесь разливали по деревянным формам и сушили. Результатом такого процесса становились кирпичики, из которых в колхозе строили коровники и конюшни. Приходилось собирать после жнеярки и колосья с полей. Обуви не было, и на босых ребячьих ногах оставалась паутина царапин. Собранные в специальные торбы колосья сдавали в колхоз.
Школы как таковой в поселке не было, поэтому учились по хатам. От комнаты хозяев класс отделяла тонкая перегородка, через которую все было слышно.
За пользование учебниками приходилось платить. Чтобы заработать деньги, ребята ходили за два километра перекладывать торф, который резали взрослые. В то трудное время помогли выжить рыба и раки, которых было полно в находившейся рядом реке. За час на пяти удочках удавалось наловить целое ведро раков! Их ели сами, ими же кормили и свиней.
…С последствиями Великой Отечественной Тамара Александровна столкнулась и много позже: во время своей трудовой деятельности. Именно ей, пришедшей в 1974 году на работу в отдел ЗАГС, пришлось восстанавливать уничтоженные в первые дни войны личные документы граждан. Копыльский район был единственным в Минской области, где не сохранилось ни единого документа: все было сожжено в первые дни войны, чтобы не досталось врагу.
Диана ТКАЧЕНКО 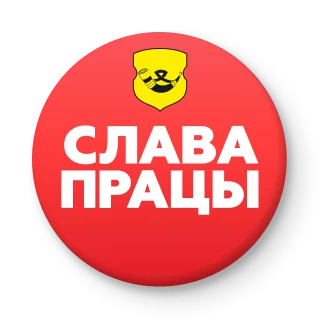

Комментарии