Когда в 1994 году Надежда Ивановна Котвицкая получала удостоверение бывшего несовершеннолетнего узника, из ее глаз невольно текли слезы. Несмотря на то, что со времени тех страшных событий прошел не один десяток лет, воспоминания по-прежнему были слишком яркими. Да и потом ничего не изменилось: пережитое запечатлелось навсегда.
«За что?»
...Недалеко от родной деревни Бывальки, что на Гомельщине, партизаны подорвали немецкий автомобиль, который перевозил фашистское руководство. Долго ответа от оккупантов ждать не пришлось: немцы проверенным зверским способом отомстили мирным жителям. Людей согнали в один из домов, остальные подожгли. После расправы над постройками дошла очередь и до людей: их погнали на железнодорожную станцию.
– Нас раздели догола и отправили в баню. Выдали одежду. Всех наголо побрили. У мамы были шикарные волосы ниже плеч. Как она плакала, когда их обрезали! А мы с сестрой утешали ее, – вспоминает Надежда Ивановна. – В грузовых вагонах привезли в какой-то немецкий городок. Посадили на помост, к которому стали подходить купцы. Из-за того, что была мама, а с нею пятеро детей, нас никто не хотел покупать – какие ж мы работники. Предупредили: если купец не найдется – отправят в конц-лагерь. Но, видимо, нам суждено было жить – забрали и наше семейство.
Поселили в бараке. Изо дня в день мать, Екатерину Владимировну, отправляли на различные работы. Детей привлекали к помощи по хозяйству: в основном, ухаживать за скотиной и пасти ее.
Старшего брата Степана (на фронт он не пошел из-за инвалидности – в детстве повредил ногу да так и остался хромым) из семьи сразу забрали. Сколько мать слез выплакала! Только через полгода случайно узнали о его судьбе. «Катерина, а ты знаешь, где твой сын? – спросила как-то знакомая. – Он почти умирает. Смотрит за свиньями. Вместе с ними ест и спит». На свой страх решили идти к «пану», чтобы просить отпустить Степана: погибнем – так все вместе, решили тогда. И хозяин сжалился, разрешил парню жить с семьей. Но это, пожалуй, единственное светлое воспоминание о жизни в Германии, которое перекрывается другими – горькими, страшными и совсем не детскими.
…Однажды проходили мимо большого фруктового сада. Маленькая Надя не удержалась и подняла лежащее на земле яблоко. Это увидел сын управляющего. Он палкой загнал ребенка в помещение, где был уголь, который только-только достали из печи, и заставил голыми ногами зайти в эту, еще тлеющую, покрытую серым налетом черную кучу. Трехлетней Наде уголь дошел практически до колен. Она стояла, не смея противиться, и истошно кричала от боли. Как ее оттуда вытащили, не знает. Помнит только себя, сидящую в бараке. Обожженные ноги – в тазу с холодной водой. Вокруг суетятся родные, плачет мать. И боль – нестерпимая, ужасная, пронизывающая насквозь детское нутро. А еще немой вопрос: «За что?»
Последствия фашистского урока за поднятое яблочко на всю жизнь отразились на здоровье. И кошмары, связанные с теми событиями, снятся до сих пор.
Война закончилась. А детство так и не вернулось
В сентябре 1945 года приехали в Бывальки. На месте родного дома – пепелище. Какое-то время, как и многие другие односельчане, ютились в землянке. Голод заставлял попрошайничать. Решение переехать пришло само собой – здесь уже ничего не держало.
Выбор пал на Копыльщину: именно сюда еще до войны из села уехало несколько семей – все ж не в никуда.
Приют нашли в Степурах. Деревню немцы не тронули. И дома были целыми, и люди относительно неплохо жили. Но принять к себе сразу шестерых новоселов – вдову с пятью детьми – согласилась лишь одна жительница, которая и сама похоронила мужа, оставшись с двумя сыновьями. На то время это было настоящим спасением – кое-как, но перебивались. Хотя и спали на соломе, и питались чем придется.
Семейные истории
Однажды, зайдя в дом, Надя увидела молодого мужчину в военной форме, щедро усыпанной орденами и медалями. Испугавшись незнакомца, девочка спряталась за маму и недоверчиво поглядывала на него с безопасного расстояния. Но, как оказалось, опасения были напрасными – после долгих скитаний вернулся ее родной брат Каленик, которого Надя никогда не видела: еще до ее рождения парня призвали в армию, а затем отправили на фронт. Вернулся он только в 1947 году. Долгое время о судьбе родного человека никто ничего не знал, связь была потеряна. Надежды на то, что вернется, не питали. А вот отца, Ивана Егоровича, не дождались – так и остался в числе сотен тысяч пропавших без вести.
О мужских сапогах и первых туфлях
В Степурах пошла в семилетку. Если в начале осени еще хоть как-то можно было перебиться без обуви, которой не было, то с наступлением холодов в школу стало не дойти. А учиться очень хотелось! И тяга к знаниям первоклассницы Нади восторжествовала: на чердаке в доме, где они ютились, девочка нашла сапоги мужа хозяйки. И пусть они были 45-го размера, пусть оба с одной, правой, ноги (поэтому и лежали без надобности). Но разве это препятствие? Два года она отходила в них в школу.
Зато как потом радовалась первым приобретенным туфлям, новому дешевенькому пальто! Купила их Надежда Ивановна уже в Калининграде, куда в 14 лет приехала следом за сестрой за лучшей жизнью. Будучи, по сути, сама еще ребенком, устроилась няней в семью. Попались хорошие люди. Они прописали деревенскую девчонку, научили хозяйничать. Затем работала в яслях, параллельно училась – получала медицинское образование.
Здесь же, в Калининграде, встретила свою вторую половинку. Украинец-матрос, с которым случайно познакомилась, поначалу Надежде не приглянулся. А вот она ему – наоборот. Молодой человек оказался очень настойчивым. Со своим Петром Викентьевичем они прожили 60 лет. И все душа в душу. Правда, из-за того, что муж был военным, пришлось поскитаться по гарнизонам. Доводилось и в лесу жить, и на Севере. Но неизменно тянуло домой. Причем не в деревню, где родилась, а сюда, на Копыльщину, где не жили – выживали в послевоенные годы. После выхода мужа в отставку мечта Надежды Ивановны вернуться на родину осуществилась.
Вместо послесловия
Правнуку Надежды Ивановны Саше сейчас семь лет – столько же, сколько было ей, когда она – голодная, в мужских сапогах 45-го размера – из чужого дома шагала в школу. Сравнивает ли женщина свое детство и детство мальчика? Бывает. Все, конечно, сейчас совершенно другое. И слава Богу. Главное, говорит она, чтобы дети не узнали, что такое война. А для этого нужна память. Для этого нужны рассказы таких людей, как Надежда Ивановна. Ведь подобные «экскурсы в историю» способны встряхнуть, вовремя остановить, не дать переступить черту, за которой – то, что довелось пережить маленькой девочке Наде и сотням тысяч ее ровесникам.
Фото автора и из архива семьи Котвицких
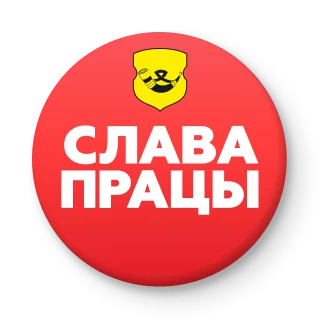





Комментарии